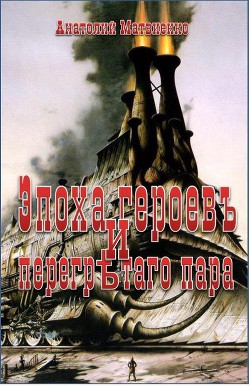Меня колотит. Как такое случилось, что религиозным фанатикам в руки попало ядерное оружие? Я не виню ислам. Если крестоносцам, что «освобождали» Землю Обетованую от мусульман и иудеев, дали бы в руки атомную пушку, они бы ни минуты не колебались. Вознесли бы молитву Иисусу-Спасителю и нажали кнопку в полной уверенности, что делают богоугодное дело.
Я виню себя. И Россию. И Штаты. И Центральную Африку. И европейских политкорректных либералов. И цивилизованных мусульман Ближнего Востока. И китацев, они ближе всех из мощных держав, за Тибетом, но не вмешались вовремя. Вообще не вмешались. Как завещал Конфуций, сидят на горе и любуются, подобно умной обезьяне, смотревшей на двух дерущихся тигров.
Я возвращаюсь в свою халупу и без сна валяюсь до утра. Нет ни радио, ни телевизора, ни, тем более, Интернета, чтобы узнать последствия пуска. С болезненным любопытством тащусь обратно к месту преступления. Там с удивлением вижу «братика». К слову сказать, он сменил европейский костюм на халат и тапки, они ему очень к лицу, безразмерная одежда обтекает бесформенное тело, она не станет мала, если ещё прибавит килограмм двадцать. Осоловелое личико обращено к тёмному пятну, где чахлая поросль выгорела от ракетной струи.
Пусковая установка удалилась, как и вереница джипов со столичным начальством. Одинокий «Лендровер» наверняка принадлежит Абдулхамиду. Лёгкий на помине, тот выскакивает из ближайшей сакли, будто за ним гонится шайтан. От ночного выражения превосходства не осталось ни следа.
— Индия пустила ракету!
Комментарии не требуются. Урод бросается к машине, но я перехватываю его и толкаю к подвалу. Индийские пусковые установки в штате Джамму и Кашмир, подлётное время — минуты, уже не удрать. До Абдулхамида это доходит без слов, но ещё раньше до Чандрагупты. Я думал, террорист мне поможет преодолеть часовых, но с ролью тарана справился толстяк. Своей массой он просто снёс караул на входе и рванул по наклонному тоннелю вниз с невероятной для такой комплекции скоростью.
Нижние уровни наверняка выдержат и ядерный удар, если эпицентр не окажется ровно над нами. Конечно, засыплет. Не факт, что отроют. Но всё это — потом, лишь бы пережить взрыв.
Он доносится чудовищным грохотом. Бетонный пол ходит ходуном, моментально покрываясь трещинами. Плита перекрытия падает на Чандрагупту, сплющивает его как гнилой фрукт и запирает мне путь. Гаснет электричество, и в следующий миг что-то невероятно огромное сваливается сверху…
…Эту темноту, абсолютную и вечную, не спутать ни с чем, кто случайно здесь побывал и был вытащен врачами. Как и звенящую тишину. Не нарушая её, внутри меня раздаётся голос. Точнее, внутри того, что когда-то было мной.
«Вот ты и здесь, Геннадий. Насовсем или в реанимации?»
Я узнаю голос Гриши. Я слышу его без терминала Некроса. Это означает только одно.
Смерть.
Глава одиннадцатая,
которая могла бы быть эпитафией герою и эпилогом одновременно
Знание и мудрость приходят к нам тогда, когда они уже не нужны.
Габриель Гарсия Маркес
Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдёт.
Михаил Зощенко
Время в загробном мире весьма условно. Здесь нет часов или каких-то ориентиров, закатов и восходов. Вообще ничего нет. Беспокойные души осаждают новопреставленных, выпытывают новости. Только благодаря перепуганным до смерти (в буквальном смысле) новичкам мы узнаём о течении времени на Земле.
Нельзя сказать, что тут прошёл год. Это у живых он прошёл. Здесь — вечность.
Некоторые погружаются в оцепенение сразу. Их мало кто беспокоит воспоминаниями. Мы были необходимы, пока топтали землю ногами. Память об усопших не так нужна и важна, увы… Эти первыми растворяются в вязком болоте коллективного сознательного.
«Знаешь, Геннадий, ты думал обо мне чаще других. Смешно сказать, но семья привыкла, что меня никогда нет, задолго до смерти. Начальство списало в расход и успокоилось».
Гриша прав. Начинаешь различать, кто и как о тебе думает. Неотчётливо, конечно, чужие мысли пробиваются через барьер между мирами очень скупо, неясным светляком в кромешном мраке.
До меня начинает доходить, почему Биг Босс запретил контакт с усопшими великими. Гитлер и Сталин ворочаются в гробу от проклятий и восхвалений вперемешку. Впрочем, Сталин меньше, народ в постсоветских государствах равнодушнее, чем злопамятные евреи, чьи родственники или просто соотечественники были замучены в Холокосте.
С иронией, в загробном мире неуместной, подумалось об Иуде Искариоте. Каково живётся покойнику, которого миллионы и миллиарды людей проклинают две тысячи лет?
Если преисподняя — место, чтобы обдумать и оценить своё земное существование, то это идеальное место. Единственный критерий — память наследников. Хотя и тут возможно исключение. Кто-то мог совершить незаметный подвиг и остался в тени. Например, неизвестный оператор пусковой установки, что заставил ракету упасть в нескольких километрах от Кандагара. Этот поступок мог быть невольным, какой-то неведомый сборщик неправильно закрутил Самый Важный Шуруп. Как говорили в СССР — в конце месяца план делал.
Старая мудрость физиков и инженеров, что нужно умереть, если хочешь сделать карьеру в Корпорации, в отношении меня не работает. Значит, не настолько президент ценил мои советы, чтобы обращаться теперь. Есть усопшие, чей авторитет котируется неизмеримо выше. Куда Генке Мерзляевскому до Молотова или Громыко!
Камалла… На сколько хватит твоей любви? Я чувствую тебя непрерывно. Или внушаю себе это. И начинаю изводиться, почему не зовёшь меня через терминал Некроса.
На Земле прошёл год, когда я впервые ощутил прикосновение.
Знаю, она меня не видит. Собственно, видеть нечего, радиоактивные останки давно сгнили в пакистанском подвале. Перед моими глазами… Да, глаз тоже нет, будем считать — перед внутренним взором, проступает её лицо, окружённое чёрным платком. Она в трауре до сих пор? Трогательно… и не нужно. Пусть живёт дальше, не оглядываясь на любовника-неудачника.
Сегодня меня так просто не отпустят. Она делает знак кому-то невидимому, и в объективе камеры появляется конверт с умильной детской мордашкой наверху.
«Твой сын».
Наверно, я умер бы от этих слов, не будь уже мёртвым. Встречаются ли счастливые покойники? Редко. Я — то самое счастливое исключение.
После остальное уже не имеет значения. Но мы говорим ещё долго, по земному времени добрый час. Больше — она. Догадываюсь, Камалле тяжело слышать мёртвый синтезированный голос, хоть с мертвецами много раз общалась по службе.
«По поводу твоего будущего… Есть один странный вариант. Извини, что начала. Не стоило, пока не прояснится».
Не понимаю, что она имела в виду. У мёртвых нет будущего. Всё моё будущее — в этом розовом карапузе. Ради него постараюсь не раствориться в небытии, дождусь его мыслей об отце, быть может, пообщаюсь через терминал. Или не пообщаюсь. У Камаллы наверняка имелись объективные причины не навещать меня столь долго.
Она начинает говорить об Ольге, хоть её не спрашивал. Инка объявилась тотчас, как узнала о моей гибели. Потребовала наследство как законная супруга плюс мать моей дочери.
«Всё урвала?»
«Я не позволила. У президентской семьи есть кое-какие возможности. Из твоих накоплений выделен счёт в двести тысяч, он может тратиться только на образование, лечение Ольги, правовую помощь».
«Ого! Откуда столько?»
«Компенсация погибшему на службе плюс выплаты по страховке. Даже Ахмаду хватит».
Ахмад — мой сын. Имя придумано без учёта моего мнения, и я не намерен оспаривать. Ахмад. Ну, пусть будет так. Меня нет на свете, но я люблю тебя, Ахмад. И тебя, Камалла, люблю, но только уже никогда не смогу выразить свою любовь. Нечем.
После того сеанса я присоединяюсь к сонму страждущих узнавать новости. Они не радуют.